
Газета основана в апреле
1993 года по благословению
Высокопреосвященнейшего
Митрополита
Иоанна (Снычёва)
 |
Газета основана в апреле |
|||
| НАШИ ИЗДАНИЯ |
«Православный
Санкт-Петербург»
|
|||
 С
известным петербургским писателем и публицистом Анатолием Юрьевичем Козловым
мы беседуем о любимых книгах, о том, что мы читали в детстве, о русской
классике, о том, сильно ли в нашей культуре деструктивное начало…
С
известным петербургским писателем и публицистом Анатолием Юрьевичем Козловым
мы беседуем о любимых книгах, о том, что мы читали в детстве, о русской
классике, о том, сильно ли в нашей культуре деструктивное начало…
— …Ведь в прежние времена не было детской литературы — и ничего: дети росли, воспитывались, читали совершенно взрослые книги, и это не мешало им вырастать полноценными личностями. А мы воспитывались на детской литературе… Так ли это хорошо? Не привила ли она нам некую инфантильность?
— Давайте рассуждать не вообще о детской литературе, а об определённых книгах. Вот одна из любимейших книг нашего детства — «Незнайка на Луне» Николая Носова. По-вашему, её можно назвать инфантильной? Да мы только сейчас увидели всю глубину, скрытую в ней, оценили все её поразительные пророчества. Только сейчас выяснилось, что все мы — незнайки, по глупости попавшие на Луну с её бесчеловечными законами. Мы ещё только-только начали возвращаться со страшного Острова Дураков…
Нет, мне кажется, что тот же «Гарри Поттер» куда более инфантилен, чем те книги, что стояли у нас на полках. Вспомни хотя бы «Денискины рассказы» Драгунского: разве они не учили правильному отношению к жизни?
А была ли детская литература в России до революции? Были сказки Пушкина, была «Чёрная курица» Погорельского… Но детской книги как массового явления не существовало, — и это, по-моему, было упущением. Детьми в любом случае надо заниматься.
Да, в прежние времена ребёнка сызмала приучали жить по-взрослому, а сейчас с молодёжью пытаются играть чуть ли до 30 лет, — и это перегиб в другую сторону. Взрослый мир так же привлекателен для ребёнка, как и игра, и взрослые книги манят к себе… Помню, в детстве, прочитав всё, что было на моих полках, я — то ли в пятом, то ли в шестом классе — решил взяться за «Капитала» Маркса, и даже пролистал третий том сего сочинения. Конечно, я ничего не понял, и всё же читал его со всей серьёзностью, потому что верил, что когда-нибудь эта премудрость передо мной раскроется.
— Легло ли вам на сердце что-нибудь из школьной программы по литературе?
— Да, самыми любимыми предметами у меня были литература и история. Литературу у нас преподавала директор школы, и преподавала на таком уровне, что нам казалось, будто образование у неё даже не высшее, а какое-то сверхвысшее. Для меня на первом месте всегда был Пушкин. «Евгения Онегина» я прочитал на год раньше программы — в 7-м классе, — и потом всю жизнь перечитывал его. Это действительно энциклопедия, которую чем больше читаешь, тем больше в ней находишь. Если раньше на первом месте для тебя стояла любовная линия, которая для юношества очень важна, то со временем роман открывается перед тобой всё глубже и глубже.
Большое впечатление произвела «Война и мир», — но это уже в старших классах…
А если говорить о том, что вне программы, то тут главным событием для меня стала встреча с Жюлем Верном. За ним последовали Вальтер Скотт с его «Айвенго», Стивенсон, Дюма… Потом пришла очередь фантастики: Александр Беляев, Герберт Уэллс…
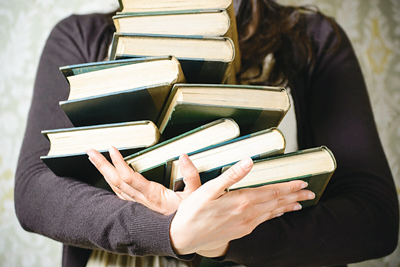 —
Есть такое мнение, будто православным детям надо запретить читать Дюма. Ведь что
такое мушкетёры? Это хулиганы, пьяницы, сквернословы…
—
Есть такое мнение, будто православным детям надо запретить читать Дюма. Ведь что
такое мушкетёры? Это хулиганы, пьяницы, сквернословы…
— И не только! Ещё и развратники, обжоры… И более того: они предатели, коллаборационисты, они враждуют с Ришелье — великим государственным деятелем, поднявшим Францию на огромную высоту… Притом они и короля обманывают, помогая королеве изменять ему…
И всё же, и всё же… Я прочитал «Трёх мушкетёров», как раз когда сам начал заниматься фехтованием, и, естественно, видел в этой книге только подвиги и геройства. Мушкетёрских грехов я не видел, зато видел, что мушкетёры — люди смелые и отважные. Они не боятся смерти! Они радуются деньгам, но далеки от стяжательства, и легко с ними расстаются, — и это привлекает в детстве.
Сейчас у меня спокойное отношение к «Мушкетёрам» — мне больше «Гардемарины» нравятся. Может быть, не надо создавать культа вокруг «Мушкетёров»?.. В любом случае это не наша культура, не наши нравы… У нас так не принято.
— Почему в России не развилась приключенческая литература? Почему у нас не было своего Дюма, своего Жюля Верна?
— Действительно не было? Или были? А вот «Капитанская дочка» — там же столько приключений!.. Нет, это не те приключения… Хорошо, давай возьмём «Остров сокровищ» Стивенсона: люди поплыли за сокровищами — не для того, чтобы кого-то спасти, кому-то помочь этими деньгами, а просто чтобы обогатиться. Сами эти сокровища уже у кого-то награблены, — но героев это не особенно тревожит. И, естественно, вокруг этих приключений начинает твориться всякая бесовщина. Как-то это не по-русски…
В наших книгах тоже встречаются авантюристы: у Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», и у Лескова «На ножах» — там персонажи даже похожи на тех, что у Ильфа и Петрова… Есть и у нас авантюрные романы, — просто они насыщены таким духовным содержанием, что их и не воспринимаешь как авантюрные. Да вот те же «Братья Карамазовы» — это же детектив, выстроенный по всем правилам жанра! Там до конца нельзя догадаться, кто убил старика Карамазова… Но какой же это детектив?!
У нас и вообще к романам отношение иное. Услышишь слова «французский роман» — и сразу понимаешь, о чём эта история. А теперь возьмём русский роман… Нет, там тоже о любви говорится, и, как правило, немало. Но это же не только о любви! Это прежде всего о том, что делать, и кто виноват, и как это преодолеть, и как эту несуразную жизнь устроить по правде… Там такие проблемы поднимаются! Сравните «Госпожу Бовари» и «Анну Каренину». И то классика, и то классика, и то шедевр — и то шедевр, но подход очень разный. Поэтому наша литература производит большее впечатление.
— Есть ли такие книги в русской литературе, которые вы бы запретили как вредные?
— У Льва Толстого много вредных рассуждений… И всё-таки он гений. Когда он пишет с натуры как художник, у него великолепно выходит! Как можно его запретить? Его нужно разъяснять, спорить с ним, — но запрещать?.. Нет…
— А вот Булгаков?..
— Ну а его как запретить? В наш век Интернета что-либо запретить очень сложно. Вот восхвалять его я бы запретил! Нужно всё объяснять, всё растолковывать… Да, «Мастер и Маргарита» Булгакова или «Одесские рассказы» Бабеля — это очень вредные вещи. Это всё элементы духовной войны. Я не сторонник теории заговора, но как можно теоретизировать, когда заговор уже сложился? Однако не запрещать надо того или иного автора, а наоборот: взять да и посвятить час в школьной программе Булгакову, и разобрать его по косточкам — его и ему подобных, вывести их на чистую воду, расставить все точки над i.
А Салтыков-Щедрин? В детстве мы со смеху умирали над «Городом Глуповом», но с возрастом я понял, что эта книга — даже не шутка, не юмор, не сарказм, это просто у писателя жёлчь выплеснулась. И я от такого «юмора» быстро отделался.
— Я бы Серебряный век проредил…
— Вот именно — Серебряный век!.. Ведь настоящий культ вокруг него создали! Но и тут не надо ничего запрещать, надо просто напомнить, что был в нашей литературе и Золотой век. Оказывается, многие не понимают, что Серебряный век ниже Золотого, как серебро дешевле золота. В этом Серебряном веке слишком много бесовщины, извращений, упадничества, к нему надо очень осторожно относиться. Запретить, конечно, сложно, но надо не создавать культ из этого явления. Надо его разъяснять, потому что люди многого просто не понимают. Помню, как-то при мне одна дама сравнила подругу с Незнакомкой Блока — хотела ей польстить. Я возмутился: «Зачем же с проституткой человека сравнивать?!» Скандал получился большой. Но ведь стихи-то о ком? Вдумайтесь: что это за дама, которая «каждый вечер в час назначенный» приходит одна в ресторан? Сам Блок никогда не скрывал, о ком он написал стихотворение, — спросите у любого литературоведа. Так вот он, Серебряный век, — и вот наш уровень его понимания. Там декаданс, упадничество вплоть до прямой бесовщины, но этот декаданс кажется нам такой утончённостью, такой интеллигентностью! От «утончённости» Серебряного века легко перейти к ЛГБТ, к смене пола, — это одна дорожка, один курс. Поклонение Серебряному веку — это пережиток позднесоветского времени, когда и в СССР начинался упадок.
— И последний вопрос: кто из наших классиков на вас как на писателя повлиял сильнее всех?
— Конечно, в начале пути я пытался подражать Андрею Платонову. Этим многие грешили, кто начинал писать в 80—90-х годах. До сих пор встречаю платоновские отголоски в современной прозе, но если человек впитал эти уроки органично, то ничего дурного тут нет. А если говорить о серьёзном влиянии… Я думаю, что это был Достоевский, — хотя я как писатель ничего общего с Достоевским не имею. Достоевский, Гоголь и Лесков. Лесков повлиял на меня своей глубиной… У Достоевского тоже глубина есть, но у него невозможно научиться писать. Писать можно научиться у Лескова и Гоголя. И Чехова я прочитал, наверное, всего, даже «Остров Сахалин». Вкус писатель приобретает только на Чехове. И конечно же, очень повлиял на меня Пушкин. Впрочем, Пушкин — хоть признавай его влияние, хоть не признавай, — а его каждый русский литератор чувствует. Если кто-то скажет, что Пушкин на него совершенно никакого впечатления не произвёл, я ему просто не поверю. А из современных классиков Василий Белов производит большое впечатление: у него очень своеобразный язык и манера. Русская литература влияет самим фактом своего существования, высочайшим уровнем, который она задала всем последующим векам. Хочешь не хочешь, а приходиться оглядываться на великих, стараться не предавать их дело, — это тяжело, но это и радостно.
Вопросы задавал Алексей БАКУЛИН